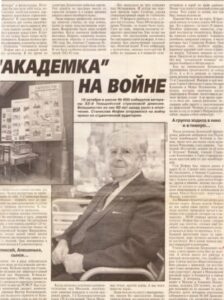
Валентина Широкова
Опоздавшие — в пулеметчики!
Внешне Станислав Леонидович идеально соответствует всем своим регалиям: у профессора, лауреата Госпремии и должны быть такие благородные седины, строгие очки. Наверное, студентом Слава был тоже таким положительным. Во всяком случае, в вуз он поступил сразу после школы, и не куда-нибудь, а в Институт цветных металлов и золота им. Калинина. Первый курс был позади, когда началась война. Ленинский райком комсомола отозвал студентов с каникул, распределив их на строительство оборонительных сооружений и на предприятия города. Слава попал на завод «Станкоконструкция».
К середине октября немцы прорвались к Москве на Можайском направлении. В эти дни в столице начали формироваться добровольческие батальоны.
— Нас, студентов, позвали в институт, — рассказывает Станислав Леонидович. — Собрали в большой аудитории и без всяких митингов просто сказали: «Товарищи, обстановка требует защитить Москву с оружием в руках. Кто согласен, останьтесь, остальные свободны».
Аудитория разделилась на две части. Многие остались и многие ушли. На сборы новоиспеченным ополченцам дали считанные часы. Общежитие института размещалось в известном доме-коммуне на Калужской заставе. У Иофина в Москве была двоюродная сестра, но попрощаться с ней времени не оставалось. Дело происходило как раз 16 октября, когда в Москве была паника, — люди стремились покинуть прифронтовую столицу. Поэтому Славе удалось лишь забежать в общагу, захватить зубной порошок, белье, ложку. Ни книг, ни фотографий на память он взять не успел. И все равно опоздал. Несся в Ленинский военкомат на Донскую, 49 на всех парах, боясь, что его сочтут дезертиром. Однако опоздал не он один.
К добровольцам вышел младший лейтенант и сказал: «Опоздавших — в пулеметчики! А сейчас шагом марш в Горный институт».
В институте их сразу же начали обучать военному делу. В качестве оружия ополченцы получили трофейные винтовки чуть ли не с Русско-японской войны. Иофину досталась польская.
Взорвать мост на свое усмотрение.
Уже 17 октября ополченцы прибыли на боевые рубежи. Это сегодня от названий Химки-Ховрино, Левобережная веет дачно-пляжным колоритом, а тогда рукой было подать до фронта. Из добровольцев тут же сформировали стрелковую дивизию, которая к середине ноября получила название 3-я Московская Коммунистическая. На западном участке расположилась 4-я стрелковая дивизия, на юго-западе — пятая. Их основу составляли ополченцы. А всего в Москве к зиме 41-го было сформировано 16 таких дивизий.
— Мы являлись вторым эшелоном 16-й армии Рокоссовского, которая держала оборону на направлении Клин-Солнечногорск, — вспоминает Станислав Леонидович. — Приказ был категоричный — не допустить прорыва противника. Поэтому мы рыли окопы, на окраине Ховрина построили большой командный пункт, устанавливали проволочные заграждения, минные поля. Немного позже я попал в саперный взвод, и мне поручили подготовить к взрыву мост через Октябрьскую железную дорогу, в трех километрах от деревни Ховрино.
Слушая рассказ Иофина, я невольно представила себе нынешних студентов, поголовно освобождающихся от «картошки» и физкультуры. Интересно, как бы они вели себя тогда, когда 19-летним необстрелянным парням доверяли важнейшие стратегические объекты? В конструкцию пришлось заложить две тонны взрывчатки. В ста метрах от моста вырыли землянку, туда вывели концы линий, а у Иофина в кармане лежал ключ. В случае чего его нужно было только вставить и повернуть. Каждые полчаса требовалось проверять, в целости ли цепь. Когда объявляли «готовность номер один», Иофин шел и в каждый ящик вставлял детонатор. В это время по мосту продолжали ходить составы, все тряслось. Чудом детонаторы не сработали сами по себе. У Станислава было предписание — взорвать мост по приказу либо на свое усмотрение: в случае явного прорыва противника. К счастью, сделать этого не пришлось.
И хотя в первые месяцы ополченцы вроде бы находились в тылу, дивизия все равно несла потери. По неполным данным, в этот период погибло 120 человек. Достоверно известно только об артиллерийской батарее Винцкевича. Девять солдат ценой своей жизни уничтожили два немецких танка и машину с пехотой. Они похоронены в братской могиле в Солнечногорске.
Алексей, Алешенька, сынок…
Понятно, что в ряды добровольцев вступали люди, не подлежащие срочному призыву. Но были среди них и такие, кто при желании мог забраться в самый глубокий тыл. Например, Н. Анцелович, член партии с 1904 года, пришел на фронт с должности народного комиссара лесного хозяйства РСФСР. Был в дивизии знаменитый джазист, композитор и дирижер Виктор Кнушевицкий, были два музыканта-скрипача из Большого театра, причем один из них тут же сменил смычок на снайперскую винтовку. Был оператор с «Мосфильма» Семен Кириллович Галадж. Он пошел воевать вместе со своей аппаратурой, и благодаря ему весь боевой путь дивизии оказался запечатленным на кинопленке. Сейчас это 42-минутный фильм. Его демонстрировали и тогда, когда отмечали 20-летие освобождения города Демянска. И вот, как в знаменитой песне, в темноте кинозала раздался громкий женский крик. Кричала вдова бывшего секретаря Демянского райкома партии. Она пришла на праздник вместе со взрослой дочерью и в кадрах хроники увидела своего погибшего мужа. Люди мирных профессий, ополченцы многому учились по ходу войны, платя за науку неисчислимыми жертвами. Вооружение было ниже всякой критики. Когда заменили трофейные винтовки, Иофину, например, выдали мосинскую образца и изготовления 1891 года. Но, отмечает Станислав Леонидович, одевали солдат очень тепло. И это было особенно актуально лютой зимой 1941/42 года.
Когда началось успешное контрнаступление под Москвой, ополченские дивизии передали в состав кадровой армии. 3-я Коммунистическая стала 130-й стрелковой. После Москвы они попали на Северо-Западный фронт. Между Москвой и Ленинградом глубоко вклинилась 16-я немецкая армия. Она сидела там очень прочно, хорошо организовав оборону. И в случае необходимости могла двинуть либо на столицу, либо на Питер. Это и была Демянская группировка противника. В боях по ее уничтожению Станислав Иофин и его товарищи получили жестокое боевое крещение.
— Нас выгрузили на трех станциях под Осташковом. И оттуда мы пешком прошли через Селигер, сделав стокилометровый марш по глубокому снегу. 20 февраля прибыли в лес, а утром наступление. Через 800 метров деревня Павлово, ее нужно было взять. Снег по пояс, впереди километр открытого пространства. Уже позже мы узнали, что наступление состоялось без предварительной разведки. А там у немцев был двухметровый снежный вал, облитый водой. В нем амбразуры с пулеметами, минные поля кругом. В избах на чердаках и в подвалах огневые точки, кругом дзоты. А мы этого всего не знали…
Люди ползли по снегу с винтовочками, многие без маскхалатов. Лошади тащили пушки, но снарядов почему-то не оказалось. После двух выстрелов с нашей стороны началось такое… Это была обычная немецкая тактика: сначала мощный ружейный огонь, чтобы все прижались к земле, затем по оставшимся в живых — минами.
Уцелевшие в первом бою отошли в лес. Новое наступление началось наутро. Потом они уже спрашивали себя — почему не ночью? Потом же они узнали, что командир полка лично повел всех за собой и был тяжело ранен. Его оттащили в сарай на краю деревни. Позже туда попал и раненый комиссар полка. Этот сарай со всеми, кто там был, немцы подожгли.
Павлово было все же взято. В братской могиле остались лежать 440 человек. Это в деревне, где всего 20 дворов. Погибли командир, комиссар, старший инструктор политотдела Жидкова, взявшая в руки пулемет. Хоронить погибших приказали саперам, в числе которых был Станислав Иофин. Они расчищали снег, долбили шурфы, взрывали мерзлый слой земли и копали могилу. Табличек никаких не ставили. Просто не до этого было, потому что всю «похоронную команду» нещадно бомбили и обстреливали.
Бои по ликвидации Демянской группировки продолжались до конца 43-го. А в 42-м дивизия за героизм своих воинов получила наименование 53-й Гвардейской. Именно в ней воевали Герои Советского Союза Наташа Ковшова и Маша Поливанова. Девушки, которые окончили школу снайперов в Москве, подготовили немало метких солдат. А во время одного из боев обе, тяжело раненные, подорвали себя вместе с окружившими их фашистами. Четверо из солдат дивизии за год до подвига Матросова погибли, закрыв собой амбразуру.
А группа ходила в кино и в пивную…
После разгрома Демянской группировки дивизию направили под Псков. Затем освобождали Эстонию и Латвию, после чего два полка стали называться Рижскими, а вся дивизия — Тартуской. Интересно, помнят ли об этом в Эстонии? Раньше, говорит Станислав Леонидович, в Тарту отмечали каждую круглую дату со дня освобождения.
Сам Иофин был тяжело ранен в марте 42-го. Сменил пять госпиталей. Из последнего, в Анжеро-Судженске, выписался в таком виде: обмундирование с чужого плеча, одна нога в ботинке, другая в тапочке, потому что в ботинок не влезала из-за перевязки. Ему дали инвалидность и комиссовали из армии. Мысль была одна — вернуться в Москву, в институт.
А в Москве студенческая жизнь шла вполне мирно. Целую неделю Иофин не мог найти свою группу: молодые люди охотнее проводили время в киношке или в пивной, которая так и называлась — ППИ (пивная против института). Иофин был в шоке: столько людей уже полегло, столько еще погибнет, чтобы дать возможность кому-то выжить и чему-то научиться. А тут… Бывший фронтовик насел на однокурсников, даже грозился выгнать их из института. Но в конце концов вернул товарищей в аудиторию.
Учился Станислав Леонидович истово, у него прямо голод был до занятий. А потом много лет работал в цветной металлургии, стал профессором. Сейчас вся его общественная работа связана с дивизией, он возглавляет Совет ветеранов. Дивизия до сих пор существует, входит в Московский военный округ и базируется в городе Коврове. А ветераны… Из тех, кто живет в Москве и ближнем Подмосковье, осталось 226 человек, но добрая половина их не выходит из дому. Охотнее всего ветераны-ополченцы собираются в школе № 600 Даниловского района, где, несмотря на многочисленные противодействия, удалось сохранить Музей боевой славы дивизии. Там 19 октября соберутся, чтобы отметить 60-й день рождения 53-й Гвардейской. Той самой дивизии, в которую вступили студенты, музыканты, художники, не желавшие отдавать Москву врагу. Многие из них не доучились, не дописали, не доиграли… Они завоевали эти привилегии для нас.