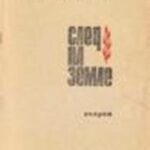 Вл. Мильков
Вл. Мильков
…ВСЕ МЫ НАРОД, И ВСЕ ТО ЛУЧШЕЕ,
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ЕСТЬ ДЕЛО НАРОДНОЕ.
А. П. Чехов
«А как музей? Если в нем еще мало интересного материала, то не волнуйтесь особенно; хорошие музеи составляются не годами, а, можно сказать, веками». Так писал Чехов устроителям первого таганрогского музейного собрания. При жизни писателя в городе его детства было положено прочное основание местному музею. Антон Павлович принял на себя, по существу, обязанности и организатора и создателя этого музея. В доброе предприятие он вовлек многих друзей и знакомых. В Таганрог один за другим стали поступать ценные дары: картины, книги, различные вещи, ботанические коллекции…
В Мелихове, с которым в творческой биографии Чехова связаны семь исключительно плодотворных лет, спустя половину столетия после отъезда писателя из Подмосковья почти ничего не напоминало о жизни в этом краю трудолюбивой и дружной чеховской семьи. На усадьбе уцелел только флигель, впервые отремонтированный в 1940 году при первоначальных работах по созданию литературного музея.
В тот последний предвоенный год молодой художник Юрий Авдеев, уроженец здешних мест, принимал участие в оформлении скромных музейных экспозиций. Он не думал тогда, что судьба свяжет его с этими местами прочно и надолго, на всю жизнь. В том же 1940 году Юрий Авдеев показал свои произведения на Московской областной художественной выставке. И они не прошли незамеченными. Начинающему художнику прочили карьеру живописца.
Первоначальную школу живописи Юрий Авдеев прошел в Орловском художественном училище. Интересные подробности о годах ученичества в Орле вспоминает один из его товарищей по училищу — И. А. Круглый, ныне кандидат искусствоведения, председатель Орловского отделения Союза художников РСФСР. Уже в ту пору преподаватели отмечали в работах Юрия Авдеева умение найти оригинальное композиционное решение и одновременно эмоционально, на сильных светло-теневых контрастах, построить сложную живопись полотна. Среди своих сотоварищей по училищу Юрий Авдеев отличался внутренней культурой, яркими, зажигательными выступлениями на студенческих собраниях, организаторской хваткой, умением блеснуть выдумкой на вечерах самодеятельности и с мастерством продекламировать Пушкина, Толстого, Чехова.
Однако по-юношески горячий и увлеченный интерес к литературной классике не заслонил и не отодвинул главное. Дороже всего была живопись. И свой самостоятельный путь Юрий Авдеев начал художником. На этом же главном направлении продолжал он свои искания, когда стал в конце тридцатых годов сотрудником Серпуховского историко-краеведческого музея. Музей располагал ценным собранием произведений русской и западноевропейской живописи, скульптуры, произведений прикладного искусства, предметов быта, богатейшей библиотекой, пополнившейся за счет частных собраний из старинных усадеб Серпуховской округи. В Серпухове работали в те годы интересные художники. Приезжал Павел Радимов, певец подмосковного пейзажа, своеобразный поэт, один из организаторов Ассоциации революционных художников России. Словом, среда и вся обстановка серпуховской культурной жизни располагала к познанию, раздумьям и поискам своего собственного пути в искусстве.
Но грянула война. И молодой художник Авдеев ушел добровольцем на фронт. В боевых рядах 3-й Московской коммунистической дивизии он сражался с врагом на подступах к Москве. Фронтовыми дорогами прошел путь до прибалтийских земель. А в минуты и часы затишья брал карандаш и рисовал портреты товарищей по оружию. На кусках картона маслом писал багровое небо, изуродованный огнем и металлом лес, пепелища, солдатские землянки, суровый фронтовой быт…
И на войне Юрий Авдеев остался верен своему призванию. А как пригодилось людям в нуждах и тяготах войны его художническое умение!
Фотограф, один на всю дивизию, не мог, конечно, обеспечить всех запросов личного состава. А каждому бойцу, вышедшему из боя живым и невредимым, так хотелось приложить к короткой весточке домой и свой фронтовой портрет в боевой форме и, как говорится, при всех регалиях… Красноармеец Авдеев стал рисовать портреты однополчан на почтовых карточках, на обрывках плотной бумаги. Портреты с полевой почтой уходили в глубокий тыл — по адресам родных и близких. Вскоре талант художника был взят на вооружение политотделом дивизии, поручавшим делать портреты отличившихся в сражениях бойцов и командиров.
С винтовкой и фанерным ящиком пробирался Юрий Авдеев в боевые расположения подразделений. В землянках, в окопах отыскивал героев и быстрыми штрихами набрасывал их черты. А сколько раз приходилось откладывать потрепанный ящик, оставлять начатые наброски и огнем отбиваться от внезапного налета противника! Недорисованный портрет отправлялся в путь по дороге войны. Его берегли до случая, когда снова придет художник и добавит к изображению новые и свежие мазки.
Случалось и такое, когда портрет завершался уже после гибели героя и становился художественным документом, памятью подвига. Портрет поступал в полковую галерею героев, повествующую о славных примерах воинской доблести.
Посмертно писал Юрий Авдеев и большой групповой портрет Героев Советского Союза снайперов Наташи Ковшовой и Маши Поливановой. Отважные девушки погибли в дерзостной схватке с врагами при выполнении боевого задания у деревни Сутоки под Старой Руссой. Художник перенес на полотно облик молодых героинь и достоверно написал боевую обстановку — сожженный лес у Сутоки и подбитые танки. Но самое основное, что он стремился передать в краске и образах, — это спокойствие и мужество мастеров меткого огня, их непоколебимую верность воинскому долгу.
Призвание не позволяло Юрию Авдееву останавливаться лишь на простом внешнем портретном сходстве. Как художник, он искал углубленное выражение внутреннего облика героев войны, стремился постигнуть духовное существо советского человека, каким оно открывалось в лихую пору испытаний. Однажды, заглянув в политчасть, художник застал там группу командиров. Дело было уже решено. Оставалось, может быть, полчаса до выхода на боевую операцию. Наступили минуты, когда никто никому не приказывал, не давал никаких наставлений. Каждый задумался о чем-то своем… И вдруг чутье подсказало: вот он — герой войны. Васильев. Комиссар стрелкового полка. Донской казак. Кряжистый красавец, крепкий, уверенный в своей силе и правоте. За какие-то двадцать минут портрет комиссара лег на бумагу. Васильев, восхищенный от удивления, выхватил рисунок и стал всем показывать: смотрите, вот я какой!
Не прошло и часа, как связные принесли трагическую весть: комиссар Васильев погиб.
Под Старой Руссой и под Демянском, на Ловати, на берегах реки Великой, в Прибалтике Юрий Авдеев сделал более трехсот фронтовых портретов воинов своей дивизии. Многие из них разошлись по городам и селам страны, какая-то часть попала в государственные хранилища. Теперь же, когда съезжаются вместе на встречу боевых друзей по оружию ветераны 3-й Московской коммунистической дивизии, собирают и портретную галерею Юрия Авдеева, драгоценную память незабываемых лет.
Фронтовые работы художника экспонируются на выставках. В 1956 году Совет ветеранов 3-й Московской коммунистической устроил персональную выставку Ю. К. Авдеева во Дворце культуры имени Горбунова в Москве. В декабре 1966 года в столице была развернута большая художественная выставка к 25-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. В ее экспозицию были включены авдеевские фронтовые этюды 1941 — 1944 годов: «Братское кладбище», «Палатки», «Сгоревшая деревня», «Иван-чай», «Линия обороны». В это же время в Орле открылась выставка «Годы военные», на ней были показаны пять других работ художника.
Если же представить себе весь объем работы фронтового художника, то к сохранившимся этюдам и портретам надо приплюсовать множество агитационных плакатов и зарисовок, которые делались срочно, по горячим следам событий и ставились в очередной номер фронтовой газеты.
В дни наступления на «Демянский котел» приехал на фронт командированный из Москвы писатель Лев Никулин. Его очерк о подвиге артиллеристов Абазы и Алафердова был написан с ходу, по-фронтовому, за один присест. Но иллюстраций к нему найти не удалось, а командованию дивизии хотелось как можно выразительнее представить читателям славный пример боевых друзей. Выручил Авдеев. Он хорошо знал обоих. Стройного, голубоглазого кубанца Константина Абазу и круглолицего, с пышной каштановой шевелюрой армянина Владимира Алафердова. Оба получили крещение огнем еще под Москвой и имели на своем счету не один десяток подавленных огневых точек и уничтоженных боевых машин противника. Под Демянском смельчаки подцепили свои пушки к танкам, ворвались в тыл врага, разгромили еще десяток огневых гнезд фашистов, овладели немецким орудием и открыли из него огонь, захватили штаб саперного батальона.
Еще до наступления на Демянск Юрий Авдеев принялся писать на полотне отчаянных друзей-артиллеристов. Они-то и возили с собой недоконченное полотно. Так что вхождение в тему у художника уже состоялось ранее. Новый подвиг позволил быстро дорисовать в воображении характеры героев. Рисунок для очерка Льва Никулина был сделан быстро, уверенно и точно. Полотно же пришлось дописывать после, когда отгремели бои у демянского котла…
В дивизию прибыло новое пополнение — из далекой Якутии, с Кавказа, из Казахстана и Средней Азии. Политработники подсчитали, что в единый боевой строй под знамя дивизии встали воины, представлявшие сорок семь национальностей страны. Перед пропагандистами и агитаторами полков возникли новые задачи. Армейская газета стала выходить со специальными страницами, посвященными дружбе народов Советского Союза. Отдельная страничка издавалась на казахском языке. Конечно, и для этих страниц потребовались иллюстрации. И тут для фронтового художника открылось исключительное разнообразие лиц и характеров в этой многоплеменной воинской семье. Он научился говорить по-казахски, знал несколько необходимых фраз на других языках. А без того невозможно было дать убедительные портреты. Надо было не только видеть лицо воина. Нужно было узнать о каждом, откуда он, как складывалась его судьба, как начинался его боевой путь…
Много раз потом Юрию Авдееву вспоминался тот двадцатиминутный портрет комиссара Васильева. Что так поразило художника? Конечно, не простое зеркальное отражение. Внутреннее сходство, вот что! Вся душа наизнанку. А душа у комиссара была добрая, широкая. Взгляд спокойный, но решительный. Да, в том портрете ему удалось схватить самое главное: убежденность, волю и человечность советского человека на войне. Комиссар сражался и поднимал в бой своих бойцов за правое дело, за честь, независимость и свободу родной советской отчизны. За жизнь, за человеческую правду на земле…
Пожалуй, с этого Васильевского портрета Авдеев и почувствовал в себе самом настоящую уверенность как художник фронта, как летописец подвигов и ратных трудов священной войны.
Много сил и старания отдал на полях войны Юрий Авдеев любимому своему делу.
Боевой путь Юрия Авдеева оборвался трагически. После тяжелого ранения — полная потеря зрения. В Риге, когда впервые вывели его на улицу из госпитальной палаты, учащенно забилось сердце, глубоко задышала грудь, но глаза ничего не видели: вокруг сплошная темнота. Для художника это была настоящая трагедия. Значит, конец дорогой мечте и незачем брать в руки кисти, растирать на палитре краски. И никогда не обрадоваться волшебным цветовым пятнам на полотне, из которых — мазок за мазком — возникают цветы и деревья, небо и звезды, лики светящегося, волнующего радушным разноцветьем реального мира. Он рядом, он осязаем, до него можно дотянуться рукой. Но он — невидим!
Врачи долго выхаживали больного. Блеснула надежда на чудо: в мутной пелене небесного простора Юрий Авдеев стал различать солнце — черный шар. Надежда наводила на горестные размышления. Вдруг так останется все — черное солнце, белесые силуэты домов. Как на негативной пластинке. И тогда уж ничего не поделаешь… Но чудо все-таки бывает! Мало-помалу стали отчетливее выплывать из сероватой мглы силуэты деревьев, домов, крыш. И солнце как будто проглянуло, прорезалось сквозь туманное месиво небес просвечивающим диском…
Наконец стало возвращаться ощущение цвета. Голубое небо. Мягкий, необычайный, бархатистый цвет земного покрова. Зеленый цвет жизни! Вместе с ним возвращалась и реальная надежда вернуться к любимому занятию. Но ни врачи, ни время не смогли вернуть всего, что отняла война. Писать было трудно. Кисть привычно касалась полотна, а краски не слушались. Надеяться на полное восстановление зрения, кажется, было безнадежно…
И вот Юрий Авдеев снова в Мелихове, на пустыре, именуемом чеховской усадьбой. Знакомый, потрепанный военными годами, но уцелевший все-таки флигель. Жалкие остатки чеховского сада. Рядом дорога, проходящая прямо через то место, где когда-то стоял дом Чеховых. И ни одного мемориального экспоната. Ни одной вещи, к которой прикасалась рука знаменитого земляка — писателя Антона Чехова. Почти ничего, напоминающего о здешних его трудах и днях. В здании по соседству с усадьбой, приспособленном под музей, хранилось несколько копий с чеховских документов, газетные вырезки да книги писателя, его нетленное, живое слово. Все надо было начинать сначала.
Двадцать лет назад вся экспозиция музея помещалась в одной комнате. Чеховские вещи покоились в случайном соседстве под стеклом стендов-тумбочек. Белый картуз, в котором доктор Чехов объезжал в холерную эпидемию окрестные деревни. Визитные карточки. Знакомое по портретам пенсне. Вещи были подлинными. Но они молчали…
Поиски экспонатов продолжались, а про себя Юрий Авдеев вынашивал думку о восстановлении главного дома усадьбы. То ли напористая приверженность к делу или какие-то другие качества натуры тому способствовали, но произошло так, что близкие к Чехову люди — М. П. Чехова и О. Л. Книппер-Чехова прониклись к новому мелиховскому директору каким-то своим особенным расположением и доверием. Следствием чего и явился приток наиболее ценных и редкостных поступлений в музейные фонды. А вещи все-таки молчали, они не хотели говорить…
Как же найти тот заветный ключ, который бы открыл вход в отошедшее время, помог услышать его главенствующее звучание? Да надо было наконец найти и камертон, которым возможно проверить чистоту этого звучания…
В марте 1956 года сотрудники музея поехали в Ялту к Марии Павловне Чеховой. Вопрос о полном восстановлении усадьбы из области мечты переходил в сферу практической работы. Потому так внимательно слушали рассказ девяностолетней сестры писателя о жизни чеховской семьи в Мелихове. Важна была каждая деталь. Память о прошлом у Марии Павловны сохранилась свежей и ясной. Она как будто заново переживала мелиховское время.
Мало было запомнить каждое слово. Надо было уловить, прочувствовать самое существо ее переживаний.
«…Мы старались жить красиво: не так, как наши соседи…» (речь шла о мелиховских помещиках). «Сколько мы работали! С раннего утра, с шести часов…» Мария Павловна запела песню, которую певали мелиховские девушки: «Люблю я цветы полевые». Та песня была не пришлая. Ее и по сей день не забыли в Мелихове. У Чехова в «Мужиках» крестьяне поют эту же самую.
Вспомнила Мария Павловна один из последних вечеров, когда накануне переезда в Ялту сидели с Антоном на балконе флигеля и прощались с этим столь дорогим уголком подмосковной земли. «Погода была чудесная, кругом так красиво. Настроение музыкальное… Невольно вспоминалась музыка Чайковского к первому акту «Евгения Онегина».
Мария Павловна вычерчивала планировку комнат в главном доме, обсказывала устройство всей усадьбы. Попытались было уточнить некоторые мелкие и частные подробности, но вдруг она озадачилась: «Не будьте педантами. Создавайте чеховское настроение».
Так вот он, заветный ключ!
В августе 1958 года Мелихово навестила О. Л. Книппер-Чехова. Во второй раз — через пятьдесят девять лет спустя после незабываемых трех весенних дней, проведенных здесь с Антоном Павловичем, в кругу дружной семьи писателя. «У меня нет слов от воспоминаний», — записала она в музейной книге. Воспоминания были об их первой весенней встрече. С ними вернулось ощущение простора и света далекой поры. «Как сейчас вижу цветущий сад с небольшим прудом, чудесные деревья и кусты, цветы… Много неба, много земли, уютный дом, который любил показывать в милом, шутливом тоне гостеприимный хозяин, но главной гордостью его было то, что давала земля».
Воссоздание чеховского дома уже началось. Многое было сделано для восстановления сада. Цвели розы. В листве проглядывало первое золото осени. В высокое мелиховское небо привольно вымахнули горделивые кроны посаженных Антоном Павловичем берлинских тополей… Начинающая новую жизнь усадьба действительно радовала глаз, но еще больше обещала в недалеком будущем. Очень многое предстояло сделать, чтобы она стала настоящей, чеховской… Об этом напоминали постоянно и строки из письма в музей Ольги Леонардовны о Чехове и Мелихове, «которое он любил и был привязан всей большой поэтической душой»:
«В его повестях, рассказах и письмах много раз возникает дорогое сердцу Мелихово, которое было предметом его самых сердечных забот и беспокойств… Он сам сердечно и скромно помогал созданию первой школы в Мелихове и сам заботливо лечил всех приходящих к нему больных. Как писатель, он нашел в Мелихове богатый источник, который безостановочно питал его творчество. Здесь, в Мелихове, он вновь хорошо узнавал русскую жизнь, русскую природу, русских людей, которых он бесконечно любил, в силу которых он верил и которые завоевали теперь заслуженную свободу».
Так вот где надо искать камертон, дабы не сфальшивить, — в природе и людях; их деятельное содружество и составляет то, что мы называем чеховской землей.
Все здесь должно говорить о Чехове: и люди, и цветы, и небо, и деревья, и птицы, и маленькие прудики, и леса вокруг, в которые входил он бережно, с любовью ко всему, что могло подарить людям счастливые минуты на этой земле.
Хлопот с главным домом хватило на несколько лет. Надо было составить проект, выверить в нем все. Но до того надо было утвердить, провести в жизнь самую идею строительства. Добиться ассигнований, найти фондовые материалы, отыскать хороших мастеров. Кто занимался подобным строительством, только и сможет в полной мере представить, скольких усилий, скольких трудов все это стоило. Из собирателя Авдеев превратился в строителя, что накладывало на художника совсем непривычные хозяйственные заботы.
Но в том-то и был один из секретов успеха, что художник в Авдееве не умер, не уступил своих законных прав музейщику. Совсем не потому даже, что частичное восстановление зрения позволяло все чаще возвращаться к холсту и краскам.
Чутье, строгий вкус, суровая взыскательность и, конечно, воображение художника, не беспочвенное, а основанное на трезвом познании существа дела,— каким незаменимым подспорьем обернулось все это в музейном деле. Припоминался фронтовой опыт. Поиски достоверности, внутренней правды в изображении людей войны. А здесь требовалось воссоздать и время, и облик писателя, и облик земли, от которой неотделим Чехов. Буквально никогда и ничего воссоздать невозможно. В буквальном смысле и при Чехове на усадьбе шла своя трудолюбивая жизнь, и каждый день что-то строилось, улучшалось, украшался и благоустраивался заветный уголок земли. А достоверное? Достоверное воссоздавалось в Мелихове день ото дня, из года в год.
Сегодняшние посетители Мелихова не все замечают, что чеховский дом — одна из молодых построек на усадьбе. Дом сроднился с окружающей природой. Кажется, что всегда так и стоял здесь с того дня, как Антон Павлович Чехов в последний раз вышел из него. Гостиная… Слышится, как замирает звук старинного рояля. Гости чеховского дома только что вышли на веранду… Комната отца — Павла Егоровича. Подшивки столичных газет. Пучки луговых трав, источающие тонкий аромат. Конторка, за которой Павел Егорович вел дневник, с выразительной краткостью помечая события не только домашней жизни, но и такие, как открытие почтовой конторы в Лопасне, строительство дорог, народная перепись, прилет птиц, работы в саду…
Сравнительно недавно в доме появилась неожиданная новинка. Вы переступаете порог комнаты Антона Павловича. Звучит «Мелиховский вальс». Немного грустная, просветленная доброй улыбкой подмосковной природы мелодия. Вальс подарен музею композитором Кириллом Молчановым. Музыка создает фон настроению и как будто раздвигает стены. Проникаешься мыслью, что не только вот эта комната с массивным письменным столом под зеленым сукном была рабочим кабинетом писателя. И этот сад и огород за тройным окном. Антон Павлович первым поднимался в доме. В пять утра склонялся над чистым листом бумаги. Потом выходил на участок, где уже принялся за работу Павел Егорович. За окнами нежатся на осеннем солнце яблони и вишни. Видны грядки, именовавшиеся «Югом Франции» по большинству прижившихся на них, неведомых до сих пор для здешних мест зеленых поселенцев…
Мелодия обрывается на затихающей волне, а воображение унеслось в ближние окрестности, в луговые и лесные дали. Кто с точностью обозначит теперь границы чеховской творческой лаборатории, кто знает, куда уводили лесные тропинки прекрасного доброй и щедрой поэтической душой человека, слово которого обошло ныне весь мир.
Нет, не мертвое дело, не архивная пыль, по-настоящему составляемый, с любовью и вдохновением создающийся мемориальный музей.
В том, что музейное дело — труд живой, творческий, не допускающий застоя, успокоенности, консерватизма, убеждаешься всякий раз, как приходишь к Чехову, в этот благодатный уголок Подмосковья.
Двадцать лет назад музей имел крохотный клочок земли с флигелем. Начали строить и развивать музей — с дороги. Хорошо налаженные транспортные связи в современном мире — первая необходимость делового успеха. У дороги, поближе к пруду, что протянулся по срединной части деревни, поставили торговые точки. Заведения во всяком музейном строительстве очень немаловажные. Трудностей с этими стройками довелось преодолеть не меньше, чем при сооружении центрального объекта — дома А. П. Чехова.
В 1951 году в музее было всего три работника: директор, научный сотрудник и сторож. Третьим был дядя Миша Симанов, современник писателя и человек словоохотливый, любивший, на досуге поговорить о докторе Чехове. Свои воспоминания он начинал рассказом о том, как с мальчишками собрались они однажды забраться в чеховский сад за яблоками. А доктор разгадал ребячью хитрость, позвал к себе и одарил полными картузами плодов. Рассказы дяди Миши сдабривались, конечно, солидной долей вольной фантазии. Но директор досконально изучил все, что было написано о Чехове. И ему нетрудно было уловить в этих рассказах то драгоценное зерно, которое и следовало ввести в складывающийся фонд музейных документов…
Сегодня в штате музея состоит тридцать один человек. Пришли в музей выпускники вузов, педагоги, опытные садовники. И большая половина из них содержится за счет спецсредств. В 1949 году музею была отведена территория в 1,33 гектара. В 1968 году принято правительственное решение об охранной заповедной зоне, в которую входит восемьсот гектаров прилегающих к Мелихову угодий. На сегодняшний день чеховское Мелихово по занимаемой площади один из самых больших среди литературно-мемориальных заповедников страны. О том, как были получены эти последние приобретения, Юрий Константинович Авдеев мог бы рассказать целую повесть и с отрадными, и довольно досадными эпизодами. Но главное-то состояло в том, что он добился своего: поставил на госохрану заповедную землю.
Сегодня в киоске у выездных ворот мелиховской усадьбы продается десяток сувенирных изданий, четыре из них изготовлены Чеховским полиграфкомбинатом — яркие, привлекательные, хорошая печать на хорошей бумаге. Здесь же можно купить и пластинку с «Мелиховским вальсом», изготовленную по заказу музея.
Посетитель доволен — он увозит с собой чеховский сувенир. Музей получает доход и имеет возможность приобрести новые экспонаты, затратить значительные суммы на благоустройство. Ведь одними дарами тоже не может быть жив музей!
Только за последние годы заповедником куплены, перевезены на усадьбу и включены в музейный комплекс старинные постройки — кухня и так называемая баня, просторная изба, чаще использовавшаяся для размещения многочисленных гостей. Здания эти — подлинные, проданные с усадьбы в 1920 году, а теперь вернувшиеся на свое место.
К дому-кухне успели за несколько лет привыкнуть и жители Мелихова, и работники музея. Считали, что он прижился, вписался прочно в усадебный ансамбль. Все так бы и осталось на том же месте, если бы успокоились на достигнутом. А между тем исследовательская работа в музее продолжалась с неубывающим интересом. Разыскивались забытые документы. Старинные фотографии и зарисовки сличались с современными снимками музейных объектов. И открыли, установили доподлинно на основе научных заключений, что при Чехове здание кухни имело больший объем. Стало очевидно, что при продаже с усадьбы и сборке строения на другом месте часть его была утрачена.
Сейчас кухня сооружена в прежнем архитектурном объеме. Появилась дополнительная площадь. Как включить ее в жизнь музея? Снова обратились к документам. В дневнике П. Е. Чехова оставалась нерасшифрованной запись: «Открыли школу для прислуги. Учителя Маша и Антоша». Ряд других косвенных свидетельств подводил к выводу: в доме помещалась не только кухня, здесь же жила и прислуга. В нем же и открылась самая первая мелиховская школа. С нее зародилась и началась просветительская деятельность Чехова, завершившаяся потом строительством добротных, разумно спланированных школьных зданий в Мелихове, в Талеже, в Новоселках.
В «новой» половине дома-кухни воссоздали интерьер деревенского жилища. Убранство творилось при участии старожилов. И все до последней вещи тут подлинное, мелиховское: и мебель, и одежда, и вышивки, и русская печь, которая выпекает на поду настоящий деревенский хлеб…
А суть приобретения в конечном итоге вовсе не в наглядной этнографической точности. В другой половине дома разместили художественную экспозицию, включившую в себя виды старого Мелихова, окрестных селений, приоткрывающие окно в ушедший безвозвратно унылый быт с тяжкой и беспросветной нуждой бедных крестьян и фабричных рабочих. В экспозицию органично вписались мелиховские этюды М. П. Чеховой и, что особенно примечательно, написанные ей и ее подругой художницей М. Г. Дроздовой с доброй, проникновенной симпатией портреты здешних крестьянок.
Обновление обогатило музей, добавило страницы к главнейшей теме всех его экспозиций, которую не определить точнее, чем сказано было самим Чеховым в знаменитых словах:
«Если я врач, то мне нужны больные и больница: если я литератор, то мне нужно жить среди народа… Нужен хоть кусочек политической и общественной жизни…»
Иной раз за разгадкой «белых пятен», интересных и спорных вопросов творческой биографии А. П. Чехова сотрудникам музея приходится отправляться в края неблизкие, далеко за пределы Лопасненской округи и бывшего Серпуховского уезда.
Как известно, очерк «Сахалин» был написан в Мелихове. И молодому сотруднику музея пришлось совершить поездку на остров Сахалин, из которой он привез немало ценных сведений о местах, которые в свое время объехал и обследовал Чехов.
Всем хорошо памятно также, что пьеса «Чайка» по месту своего рождения принадлежит тоже Мелихову. Чеховская надпись на фотоснимке флигеля: «Мой дом, где была написана «Чайка» — давно вошла в биографические очерки. Замысел ее и даже место действия, казалось, легко «привязывались» к здешним местам. А между тем в мемуарной литературе затерялось и забылось любопытное свидетельство о том, что замысел сюжета «Чайки» связан с поездкой А. П. Чехова в северный край Тверской земли, в страну голубых удомельских озер, где жил художник И. И. Левитан.
Путешествие на Удомлю убедило Ю. К. Авдеева в том, что замысел «Чайки» действительно соприкасается с происшествием, которое произошло здесь с Левитаном. А природа края, облюбованная в конце прошлого века многими известными русскими пейзажистами, не оставляла сомнений, что и фон пьесы, озеро, из-за которого приходит Нина Заречная, на котором Треплев убивает чайку, навеяны были Чехову удомельскими впечатлениями.
В печать сданы две исследовательские работы директора музея-заповедника, которые должны выйти в научных сборниках. В них автор высказывает свой взгляд на творческую историю и некоторые прототипические основы замысла «Чайки».
Вышла из печати книга Ю. К. Авдеева «В чеховском Мелихове». Третье, переработанное и дополненное издание, как помечено на обороте титула. А по существу-то, во многом новая, не повторяющая прежние два издания, книга. Она отражает сегодняшние дни музейной мелиховской жизни, содержит самостоятельные историко-биографические наблюдения, опирающиеся на публикации неизвестных материалов и новейшие сообщения исследователей жизни А. П. Чехова.
В главе «Негласный надзор» публикуется чеховское письмо к известному психиатру В. И. Яковенко, содержащее дополнительные сведения о широком круге деятельности общественной, литературной, медицинской, которой был захвачен А. П. Чехов. Но самое интересное в нем — свидетельство об исключительно сердечном, душевном расположении писателя к адресату: «Всей душой стремлюсь к Вам…»; «А нам с Вами надо бы почаще видеться. Ведь мы соседи. Быть может, вместе мы могли бы придумать что-нибудь, чтобы оживить нашу местность, которая закисает все больше и скоро, по-видимому, обратится в тундру».
В. И. Яковенко с молодых лет связал свою судьбу с революционным движением. Строки письма, кажется, проливают определенный свет на мелиховскую жизнь Чехова: как необходим был писателю воздух жизни общественной и политической, как тянулся он к людям, способным оживить затхлую, застойную обыденщину провинциального быта!
Говорят, беда не приходит одна. Да ведь и добрые события в жизни человеческой тоже не бывают одинокими. Выход третьей книги у Ю. К- Авдеева совпадал с желанным для художника событием — выставкой живописных работ в Орле.
Все последние годы Юрий Авдеев с упрямой настойчивостью стремился преодолеть и побороть проклятое, мучительное следствие войны. В марте, с началом «весны света», когда в природе начинали звучать интонации радостного пробуждения, он уходил с этюдником в окрестные леса. В ясные августовские дни, когда чеховская усадьба светилась красочным разноцветьем, он устраивался в укромном уголке и снова писал. Чаще всего цветы. Сказывалось пристрастие к яркому цвету, проявившееся еще в юности. Не случайно один из фронтовых этюдов, отобранных на всесоюзную выставку, изображал цветы, выстоявшие, выжившие в огне войны. Авдеев писал аллеи чеховского сада, флигель, голубое небо. Хотелось перенести на полотно до боли щемящее ощущение холодноватой августовской солнечности, так спокойно разлитой вокруг, последнюю вспышку красок уходящего лета. Как трудно было приспособиться к новому видению натуры, потому что зрение полностью так и не восстановилось. Еще труднее было найти свое свежее художественное видение предмета.
Мелкие детали оставались недоступными глазу художника. Но ведь не в них суть. В этом он убедился еще на опыте фронтового художества. Главное — цветовое звучание, гармония красок, лирическое настроение, сквозящее в движении природы. Именно лирическое, точнее говоря, романтическое, переданное не тоном, не оттенком, а цветовым контрастом. Юношеское увлечение Аркадием Рыловым не прошло даром. По-своему преломилось в сочности красок, обобщенно выражающих вечные перемены в природе.
Чем тверже устанавливался почерк, тем больше не давала покоя война. По ночам снились жаркие атаки. Днем рука тянулась к мольберту. Память возвращалась к давней теме, к фронтовому этюду, писанному под Старой Руссой, под Демянском, у Пушкинских гор. Блиндаж в глухом лесу. На подступе к нему остались каска, истлевшие сапоги. Да едва-едва просвечивающие сквозь траву останки солдата. И рядом — буйная поросль иван-чая, вечного спутника пожарищ…
Десятки раз принимался художник переписывать свой «Иван-чай». А все не то: сырой, холодный мрак струился из чащи, расползался по всему полотну.
Вспоминалось спаленное войной пушкинское Михайловское. Становилось жутко от мысли: а если грянет снова? Неужто снова на Пушкинские горы, так дорогие сердцу, обрушится жадный, бессмысленный огонь? Опять рука тянулась к мольберту. Резкие мазки высвечивали сочно малиново-лиловым контрастом елочки цветов иван-чая. Лиловый цвет подчеркивал траур, но все-таки, все-таки малиновый проступал контрастом по отношению к сырому, липкому мраку… Пожалуй, на этом можно и остановиться. Да только надолго ли, насовсем ли?
Что ни говорите, а встреча с городом юности и выставка картин в Тургеневском музее пришла наградой за многолетние труды. И было, конечно, приятно прочесть в книге отзывов слова признательности — старых друзей и молодых зрителей.
«Спасибо за щедрость таланта, спасибо за буйство красок и половодье чувств, за цветы, за подсолнухи, дорогой русский снег. Работай на славу и радость людям». Эту запись внес в книгу орловский писатель Леонид Афонин.
На выставку пришло много молодежи. Приведем запись, сделанную студентом Орловского художественного училища А. Шаталиным: «Я ни разу не был в Мелихове. Но вот пришел на выставку Ваших работ, Юрий Константинович, и не просто увидел, а почувствовал ту жизнь, которой живет природа мелиховских мест. Ваши работы своей откровенной простотой и ясностью учат ценному качеству — находить прекрасное в самом простом и обыкновенном, быть правдивым».
С Мелиховом теперь кровно и навсегда связана жизнь Юрия Константиновича Авдеева. Со здешней природой, с людьми, с музеем. А от Мелихова тянутся связи ко всему району.
В Чеховском районе коммунист Авдеев ведет большую общественную работу. Его знают как отличного лектора, горячего пропагандиста наследия А. П. Чехова. Он — депутат городского Совета, член Комиссии по охране природы и памятников культуры. И тут уж не раз приходилось по долгу и призванию отстаивать красоту и ценность не только заповедных мелиховских мест, но и многие другие памятные места чеховской земли. Приходилось доказывать, что заповедное — неприкосновенное, что город, носящий имя великого писателя, должен всегда помнить об ответственности перед этим именем. И что чеховская земля не ограничивается только заповедником, что в молодом растущем городе Подмосковья надо бережно сохранять все, что является культурным наследием прошлого.
Случилось как-то, что из самовольных, «ведомственных» побуждений принялись пилить «деловую» березу на опушке ближнего мелиховского леса. На опушке-то и пилить сподручнее, и вывезти проще. За чеховскую рощу вступились всем миром. Подняли на ноги всех друзей музея. Полетели телеграммы в центральные газеты, посыпались письма в охранные организации. И варварское нашествие на чеховский лес удалось остановить…
К слову, о друзьях музея. Из старейших друзей Мелихова в первую очередь должно назвать Сергея Михайловича Чехова, племянника писателя, подарившего музею много ценнейших вещей из семейного собрания. Да и многим находкам, таким, например, как картина Николая Чехова «Девица в голубом», занявшая ныне свое место в мелиховской гостиной, музей обязан стараниям этого ревностного и неутомимого собирателя и хранителя реликвий чеховской семьи.
С первых лет музейной работы друзьями Мелихова стали бывшая учительница здешней школы М. И. Грачева, бывший агроном Бавыкинской волости, организатор первых коммун Ю. В. Рейслер, литературовед К. М. Виноградова.
Фронтовой товарищ Авдеева художник П. И. Шолохов все послевоенные годы писал мелиховские пейзажи и многие передал музею. Другой товарищ — серпуховской художник Миша Абросимов и сегодня не устает разъезжать по округе, собирает кое-где еще уцелевшие предметы старого местного быта, без которых в музейном деле не обойтись.
…А хорошие музеи, вспомним слова Чехова, создаются столетиями. И работы в Мелихове для всех друзей и доброхотов хватит еще на многие годы. Только два года назад удалось удалить с территории усадьбы изжившие себя, давно устаревшие совхозные животноводческие постройки и положить начало восстановлению чеховского сада. И сад этот восстанавливается всем миром. В посадках участвует молодежь пяти районов Московской области. А у молодоженов Чеховского района становится обычаем — в день бракосочетания посещать заповедный уголок. Если свадьбу играют весной или осенью, молодые супруги садят здесь свое дерево — на счастье, на добрую жизнь. Хорошая традиция рождается на наших глазах.
Ныне гости Мелихова проходят к Чехову через красные ворота по аллее молодого сада, который через каких-нибудь пять — десять лет пышно разрастется и зашумит на ветру приветливой, говорливой листвой… Будут, конечно, и другие прибавления на мелиховской усадьбе. Словом, впереди еще целая пропасть дел и хлопот. «Не хватит и двух жизней»,— говорит Юрий Константинович. Но те два десятка лет, что прожиты Ю. К. Авдеевым на мелиховской усадьбе, отданные день за днем благоустройству и украшению чеховской земли, уже оставили добрый след и в душах людских, и на самой этой земле.
Сергей Тимофеевич Коненков, посетивший Мелихово в самый разгар восстановительных работ, был счастливо обрадован встречей с Антоном Чеховым, с цветами, с птицами, с вековыми дубами и тополями, друзьями великого писателя. Старейший из русских художников был обрадован и знакомством с хозяином усадьбы, увидел в нем настоящего продолжателя и наследника чеховских дел. В этой коненковской мысли скрыта своя большая правда. Антон Чехов оставил потомкам прекрасный пример делового человека. На подмосковной земле он строил школы и дороги. Лечил людей. Украшал землю садами. Таким-то только и может быть подход наследников Чехова к делу.
И как прав оказался С. Т. Коненков! Совсем недавно пришло известие о присвоении Юрию Константиновичу Авдееву звания заслуженного работника культуры РСФСР.