
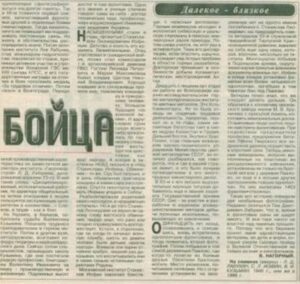
Не правда ли, между этими фотографиями много общего? Те же непринужденные позы, похожие лица, подкупающие улыбки… Все так. Вот только разделило два любительских снимка неумолимое время — более четырех десятилетий. А история их проста и вместе с тем необычна. Свое начало она берет в далеком нынче 1941 году.
Не зная друг друга, учились тогда Станислав Иофин. Лев Лабухин и Валентин Кузьмин в соседних московских вузах — институте цветных металлов и золота имени М. И. Калинина и горном имени И. В. Сталина. Готовились ребята пополнить славную семью горных инженеров по разработке рудных и россыпных полезных ископаемых. При поступлении в вузы никто из них, конечно, не знал, не ведал, что жестокая война отодвинет юношескую мечту на многие годы.
Станислав Леонидович, перебирая в памяти былое, рассказывает, как в один из дней осени 41-го в столице состоялось собрание партийного актива. С докладом на нем выступил 1-й секретарь МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербаков. Тогда было принято решение сформировать 25 коммунистических батальонов — по числу административных районов города.
— Создавались эти подразделения исключительно из добровольцев, — вспоминает ветеран. — И что характерно: никто из молодых людей, изъявивших о своей готовности встать на защиту столицы, не произносил горячих речей, не выдавал себя за героя. Все мы понимали, какая угроза нависла над Родиной, считали себя ее патриотами, а тут не нужны громкие слова. Выдали нам винтовки, ручные гранаты, в том числе противотанковые. Так мы неожиданно и буднично стали бойцами…
Можно долго рассказывать о ратной доблести мужественных студентов-добровольцев. Каждый из них всегда был там, где опаснее и труднее. И не случайно в жарких схватках с противником получил несколько ранений Лабухин. Не миновала вражеская пуля Кузьмина. А при выполнении боевого задания в районе деревни Лунево попал под минометный обстрел Иофин, да так, что на семь с лишним месяцев оказался прикованным к госпитальным койкам.
После войны, вновь переступив порог родного вуза, решили вчерашние воины-однополчане сфотографироваться «на долгую память». Так в 46-м появился первый снимок, запечатлевший фронтовых друзей в опаленных боями гимнастерках. Тогда казалось, ничто не помешает им поддерживать постоянную связь. Но жизнь и обстоятельства распорядились иначе. После окончания института Лев Лабухин, став инженером-гидрогеологом, поколесил по стране, принимал активное участие в строительстве Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС, и его государственные награды за отличие в боях пополнила медаль «За трудовое отличие». Потом «осел» в Волгограде. Передо мной производственная характеристика на заместителя директора института «Гипроводстрой» Л. Д. Лабухина, датированная апрелем 73-го. В ней такие слова: «Дисциплинированный, исполнительный работник, по характеру общительный, за чуткое отношение к людям пользуется заслуженным авторитетом в коллективе…». Словом, в труде — как в бою.
На Украину, в Харьков, забросила судьба Валентина Кузьмина. Поначалу трудился преподавателем в горном институте. Потом в другом вузе, автодорожном, возглавил кафедру геодезии и маркшейдерского дела. Сейчас сотни специалистов, прошедших школу Кузьмина, где они постигали редкую профессию, благодарны Валентину Ивановичу за науку — производственную и жизненную. Подлинных высот достиг и сам фронтовик. Одни его звания и ученые степени говорят сами за себя — доктор технических наук, профессор, член — корреспондент Инженерной академии Украины.
Насыщенными стали и годы, прожитые Станиславом Леонидовичем Иофиным. Детство и юность его казались безмятежными. Отец участвовал в гражданской войне, позже стал комиссаром 1-й артиллерийской дивизии ПВО. Гостем Леонида Петровича и Марии Максимовны бывал комдив Щеглов Николай Владимирович. Хорошо знавшие его сослуживцы прочили ему, толковому командиру и прекрасному человеку, большое будущее «по военной линии». И вдруг словно гром среди ясного неба прокатилась по гарнизону страшная весть: Щеглов арестован как враг народа. А вскоре в застенках НКВД оказался и отец Станислава Иофина. Обвинение — то же, Суд был скорым, и в день объявления приговора комдива и комиссара расстреляли. Спустя некоторое время мать Иофина угодила в Сиблаг.
Реабилитировали родителей много лет спустя, в «хрущевскую оттепель». Но и до того Станислав Леонидович не верил ни одному слову жестокого обвинения, твердо знал, что рано или поздно справедливость восторжествует. Кстати, в отделении, где он когда-то начинал военную службу, шесть из девяти человек были детьми «врагов народа». Воевали эти парни отчаянно храбро, лишний раз доказывая, что воспитывались они в своих семьях истинными патриотами Родины.
Московский институт Станислав Иофин закончил блестяще, с «красным дипломом». Горным инженером исходил и исколесил сибирскую и уральскую глухомань в поисках землеродных даров природы. Потом снова учился, на этот раз в аспирантуре. Тема его диссертации, если опустить кавычки, исследует ряд острых проблем в области горных разработок. Докторская проникает в особенности добычи полиметаллических месторождений Алтая.
Двадцать с лишним лет отдал он работе во Всесоюзном научно-исследовательском горно-металлургическом институте цветных металлов. Это Усть-Каменогорск. Но то была отнюдь не «сидячая» трудовая деятельность. Напротив, познал он в те годы, какие несметные богатства таят в своих недрах Казахстан и Грузия, Дальний Восток, Якутия и Урал. Позже, став главным инженером научно-технического управления Министерства цветной металлургии СССР, он отлично разбирался, как говорится, что и где в нашей стране лежит, и это было лучшим путеводителем в его многотрудных министерских делах.
В 83-м к его весьма выразительным научным титулам добавилось еще и звание лауреата Государственной премии СССР. Оно — за участие в разработке и коренном усовершенствовании методов добычи полезных ископаемых, повышающих их извлечение.
Одиннадцать лет назад, созвонившись и списавшись, вновь встретились однополчане-фронтовики, и тогда появилась вторая фотография. Потом побывали в той самой деревеньке Павлово, где когда-то полегли их боевые друзья. Посетили братскую могилу. Место ухоженное, почитаемое селянами. Но с огорчением установили: на захоронении нет ни одного имени погребенного. Станислав Леонидович, как председатель Совета ветеранов 53-й стрелковой гвардейской Тартуской Краснознаменной дивизии, взвалил на себя еще одну ношу, которая, впрочем, нисколько не тяготила. Многократно побывав в Подольском архиве, скрупулезно изучая тронутые временем документы военных лет, Иофин в конце концов установил фамилии всех более четырехсот однополчан, погибших в том тяжелом бою под Павлово.
Ветеран точно знал, что же следует делать дальше. Он обратился к коллективу московского завода имени М. В. Хруничева с просьбой помочь изготовить мемориальные доски. Отзывчивые люди охотно пошли навстречу фронтовикам. При содействии председателя профкома предприятия Виталия Лукича Тверского все задуманное удалось осуществить в короткий срок. Теперь именные мемориалы, искусно выполненные на пластинах из анодированного алюминия, установлены не только на братской могиле у деревни Павлово, но еще и в восьми других захоронениях павших однополчан. На них выписаны 1463 фамилии отважных.
Такую вот историю поведали две необычные фотографии. Недавно скончался Лев Дмитриевич Лабухин. Что ж, время и фронтовые раны не щадят никого. И все-таки ничто не властно над памятью прошлого. Потому что его бережно хранят ныне здравствующие ветераны, их дети и внуки, которые узнали суровую правду о Великой Отечественной не только из книг и кинофильмов.